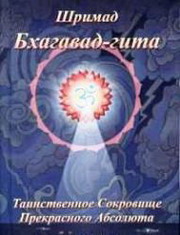| Рамакришна и Вивекананда |
| Основа - Философы, мыслители, личности |
|
Чтобы понять послание Рамакришны и его интерпретацию Вивекананды, читателю необходимо иметь некоторое понятие об индуизме, т. е. о той религиозно-философской традиции, из которой вышли оба мыслителя, которую они систематизировали и в определенной степени реформировали. Для европейцев, чье мировоззрение сформировано атеизмом и христианством, это особенно необходимо, т. к. индуизм не укладывается в прокрустово ложе представлений о религии, характеризующих нашу культуру. Само слово «религия» — по крайней мере, в бытующем в нашей стране понимании — приложимо к индуизму лишь отчасти, только к культово-обрядовой его стороне. Иногда индуизм называют «образом жизни», но это слишком узкое и поверхностное его определение. Скорее, это сложная система мировосприятия, включающая в себя философский, религиозный, и социальный компоненты, тесно переплетенные и взаимозависимые. Для понимания индуизма чрезвычайно важно иметь в виду, что для индуса не только нет в мире иной веры, чем индуизм, но и вообще нет ничего не охватываемого религией и не входящего в нее. Нет деления на мир сакральный и мир иллюзорный, нет ничего, что могло бы быть названо мирским, светским, нет ничего, кроме религии, вне религии, рядом с религией. Не поэтому ли и нет у индусов специального слова, понятия, соответствующего нашему пониманию религии? Как можно назвать то, что не имеет противопоставления? Религия для индуса — это ощущение себя частью Вселенной, следование ее космическим законам, религия - это жизнь, а жизнь - это религия. В этой двуединой формуле заключен весь индуизм с его глубокой диалектичностью, пониманием единства всего сущего, поисками единства в многообразии, с его высокой экологичностью и восприятием живой и неживой природы в их целостности, с одной стороны, а с другой — с его скрупулезной кодификацией всей человеческой активности, с его приданием религиозного статуса буквально всем жизненным проявлениям, с его обожествлением камней и животных, гор и рек, героев и демонов, диаграмм и символов, болезней и половых органов, с поклонением священному звуку и медитативной тишине. Только осознав это, можно постичь сознание индуса с его передающимся несколько тысяч лет подряд из поколения в поколение почитанием всего, что ходит, ползает, плавает, летает, с его пониманием даже естественных отправлений организма как акта религиозного. Тотальная сакрализация жизни — важнейшая черта индуизма, не поняв которой нельзя даже приблизится к сути его системы. Ничего подобного в христианстве нет. «Негативным» сравнением индуизма и христианства неоднократно занимались теологи обеих религий; но при этом они останавливались лишь на двух характерных моментах, придавая им особое значение. Специфику индуизма они усматривали исключительно в том, что, во-первых, он не имеет конкретного основателя, хотя бы и мифического, и во-вторых, индуизм не подходит под определение «религии Книги», т. е. в нем нет канонического Писания, своей Библии или Корана и размыты рамки канона вообще. Преувеличивать значение этих черт, а тем более ограничиваться ими нельзя, но сказать о характерности их для данной религиозной системы и проследить связанные с ними ее особенности необходимо. И отсутствие основоположника, и размытость канона означают по сути дела одно — иное, чем в христианстве, понятие авторитета и, следовательно, намного меньшую зависимость верующего от догматических положений. Последнее не означает, что в Индуизме верующий свободен от пут установлений и правил (его зависимость, особенно в социальном плане, практически абсолютна), но сама догматика не столь бесповоротно привязана к прошлому, она открыта для изменений, способна перестраиваться и адаптироваться к изменяющемуся миру без тех болезненных и зачастую неубедительных самоотрицаний, через которые вынуждено было проходить на протяжении всей истории христианство, изначально поставленное в жесткие рамки божественного откровения и писания. Иными словами, христианство во все эпохи подстраивалось не только под изменяющиеся условия, но и под свой исторический багаж, под догмы, отражавшие давно ушедший мир представлений; индуизм же не был скован конкретными положениями священных текстов, поэтому он изменялся более свободно, не накидывая узду ни на духовные поиски, ни даже на научную мысль, ибо его догматика не была установлена раз и навсегда, и главное, открыта для дополнений. Благодаря отсутствию основателя или «получателя» (из уст бога) религии, заменяемых аморфными, подчеркнуто легендарными и неиндивидуализированными риши, мудрецами древности, индуизм последовательно неисторичен. Это следует понимать двояко. С одной стороны, для верующего он не имеет собственной истории, т. е. того, что в христианстве присутствует в форме соборов, разделения церквей, папских булл и энциклик, раскола и т. п. С другой стороны, он и не привязан к историческим событиям, если не считать таковыми былинные подвиги героев Махабхараты и Рамаяны, а значит, свободен от скрупулезной критики историков, доставившей столько неприятностей христианской церкви. Индуизм — это определенное видение мира, а не сюжетный рассказ о вступлении в Иерусалим или о бегстве в Медину, индуизм для верующего — это, в первую очередь, вневременные и надвременные истины, существующие в космическом пространстве независимо от существования Земли и человека на ней. Такая духовная астрономичность предполагает совсем иное отношение не только к истории (а тем более к судьбе отдельного человека), но и ко времени вообще. Человек внутри этой системы мыслит невероятными временными категориями, более близкими к тем, которыми оперируют в своих теоретических исследованиях специалисты в области науки о Земле и Космосе; он с детства приучен воспринимать жизнь рода человеческого в контексте величественных пульсаций Вселенной. Четыре эпохи, четыре юги проходит в своем развитии человечество — от Золотого Века до современности, по нисходящей, постепенно утрачивая истину, знание, красоту и погружаясь в обман, безделие, грязь и болезни. Последняя из четырех юг, кали-юга, начавшаяся в полночь с 17 на 18 февраля 3102 года до н. э., завершится мировой катастрофой и уничтожением всего живого в огне и воде. После перерыва на Земле вновь возникнут люди и начнется Золотой Век, и все повторится сначала, как это уже было неисчислимое количество раз. Тысяча таких циклов составляет один день Брахмы. Когда этот день подходит к своему концу, в мире происходит космический катаклизм, в ходе которого гибнут не только люди, но и многие боги, после чего наступает ночь Брахмы, равная по времени его дню. Сутки Брахмы составляют ни много ни мало 8 640 000 000 земных лет. Из суток, как и везде, составляются годы, и жизнь Брахмы равна сотне лет (нынешнему Брахме пошел 51-год). Когда столетие подходит к концу, происходит махапралайя, Великий Космический Катаклизм, в котором гибнет вся Вселенная, весь Космос и сам Брахма. После столетнего перерыва рождается новый Брахма и все начинается сызнова. Чтобы не вызывать у читателя излишнего пессимизма, отметим, что до конца той кали-юги, в которую нам выпало жить, остается еще свыше 425 000 земных лет. Мироощущение индуса, для которого истины индуизма охватывают безначальный и бесконечный мир, возникающий, гибнущий и снова возникающий в космическом пространстве, резко не совпадает с мироощущением христианства, живущего в ожидании одноразового конца света, созданного за шесть дней всего семь с половиной тысяч лет назад. В индуизме нет церкви. Это, на первый взгляд, его наиболее разительное отличие от христианства. Сама идея церкви совершенно чужда индуизму. Это не означает, конечно, что в нем нет священнослужителей, но церковная организация, церковная иерархия, все связанные с ними институты и структуры в индуизме отсутствуют. Вполне естественно, что и главы, лидера всех верующих, патриарха или папы, верховного духовного наставника и авторитета тоже нет. Нет вообще какого-либо «руководящего звена» или органа. Да что тут удивительного - кто может взять на себя «руководство» космическим мировосприятием? И хотя духовных учителей много и в массах их авторитет непререкаем, но это санкционируется лишь общественным мнением, и ни один учитель или гуру, как бы известен он ни был, не может считаться руководителем всех индусов, да никогда и не претендует на это. Нет в индуизме единого, предписанного верующим пути. Каждый человек волен выбирать себе дорогу, наиболее соответствующую его склонностям, традициям семьи и касты, но нет и не может быть правильного и неправильного религиозного пути. Отсюда — веротерпимость индуизма. В нем нет вражды к инакомыслию, а следовательно, нет и понятия ереси. О какой ереси может идти речь, если расплывчат канон и нет ортодоксии? Нет в индуизме и прозелитизма, стремления обратить в свою веру, а потому, строго говоря, нет и миссионерства, ибо двери в индуизм закрыты. Индусом нельзя стать по желанию или по обстоятельствам — индусом можно только родиться. Конечно, на практике дело обстоит не совсем так. И в прошлом, когда шло распространение индуизма по территории нынешней Индии, и в настоящее время, когда действуют реформаторские организации, определенное включение в систему происходило, причем чаще всего на двух уровнях, либо в варну кшатриев; воинов, либо в самые низшие социальные слои, в число париев индийского общества, неприкасаемых. Но в принципе система не допускает прилива верующих извне. В индуизме отсутствуют молитвы, проповеди, исповеди, таинства в их христианском понимании. Индуизм свободен и от антропоцентризма. Человек рассматривается на равных со всей живой и неживой природой, причем в рамках теории переселения душ возможны варианты посмертного воплощения не в человеческом облике. Естественно, нет понятия о первородном грехе и вообще о врожденной греховности человека, да и понимание греха очень далеко от христианского. И человек, и природа есть формы божественного проявления. Нет в индуизме важнейшего для христианской культуры дуализма Добра и Зла, их противостояния и противоборства. Нет дьявола, бесов и ада. В отличие от христианства идея Бога не является центральной для индуизма — это едва ли не самое важное отличие, отталкиваясь от которого можно наиболее полно выявить его специфику. Главным, ведущим и связующим всю систему элементом является в индуизме не религиозная вера, а идеалистическая философия, в которой первопричиной и высшей сущностью мира выступает не Бог, полный любви и сострадания, создающий и нарушающий законы, милосердный и гневный, прощающий и карающий, а безличный, безначальный, бесконечный Абсолют, духовный универсум, включающий (как Космос) и все, и вся, и всех, недостижимый ни разумом, ни молитвой, недоступный в полной мере ни пониманию, ни описанию, ни определению. И если захочет человек грубым своим языком хоть как-то передать свое представление о нем, то не о небесных чертогах или ангельском пении, не о громовых колесницах или сверкающем мече заводит он речь, а том, что не требует мифологического склада мышления — дыхание, жизнь, совесть, бесконечность времени и пространства и, конечно, космический закон эволюции. Вот это последнее и может быть названо наиболее важной чертой, индуизма, его стержневой идеей. В этом вся суть его системы. В основе индусского мировосприятия лежит вера в изначальную логичность и взаимосвязанность мира, в некий Вселенский духовный порядок, своего рода эволюционную шкалу космических масштабов. Все в этом мире последовательно развивается от материи к духу, проходя при этом промежуточные стадии от материи к жизни, затем к сознанию, потом к разуму и, наконец, к духовному совершенству. В крайних точках развития заключены проявленная и скрытая противоположности; на одном полюсе — чистая материя, в которой дремлет дух, на другом — чистый дух, в котором растворилась материя. Между этими двумя полюсами расположены все мыслимые их комбинации, причем по мере эволюции постепенно возрастает доля духовного начала и уменьшается доля начала материального. От безжизненного материального камня растения отличаются тем, что в них уже есть проявленная частица Высшего духа, принимающего форму жизни; в животных эта частица, выступающая в форме сознания, уже на порядок выше. В человеке духовное начало проявляет себя прежде всего как разум; в каждом человеке, в каждом индивиде есть, следовательно, некая часть Высшего духа, хотя ее, так сказать, консистенция в разных людях различна, есть люди-камни, живущие без каких бы то ни было духовных запросов, погрязшие в материальном, есть люди-животные, люди-растения, но есть и те, кто уже прошел немалый путь духовного совершенства. Все они, согласно этой шкале, ближе к Высшему Духу, чем животные, животное ближе, чем растение, а то, в свою очередь, ближе, чем камень и другие предметы чисто материального мира. Вместе с тем эти отличия как бы подчеркивают взаимосвязанность и родство всего сущего во Вселенной. Человек оказывается вписанным в общую схему развития, причем любое его деяние должно быть соотнесено с магистральной линией духовного развития всего мира. Совершенствуя себя, повышая свой духовный уровень, он способствует тем самым улучшению мира, росту его духовного потенциала, приближая — пусть совсем незначительно — человечество в целом к Высшему Духу. Но человек может сыграть своим поведением, своими поступками и даже мыслями контрреволюционную роль, притормозить тем самым общее развитие, снизить общую духовность мира (не говоря о негативных последствиях для него самого). На основе этой общей схемы выстраиваются разные подструктуры сознания и поведения. Сюда относятся четыре стадии жизни человека (от ученичества до отказа от мирских дел), рассматриваемые как постепенное восхождение духа; к схеме космического порядка привязаны четыре смысла жизни (кама, артха, дхарма и мокша); к ней примыкает иерархия ценностей (по восходящей: материальные, биологические, интеллектуальные, духовные); наконец, с той же схемой сопряжено устройство общества, в котором четыре варны предстают как последовательные ступени духовного прогресса, а богатство и власть оказываются ниже по значению, чем духовность и правильное понимание направленности и обусловленности эволюции. Вот этот философский компонент и составляет основу системы. Сказанное не следует понимать в том смысле, что философский компонент был в индуизме исходным. Напротив, он является позднейшим по времени возникновения, по крайней мере, в своей законченности, и связавшим (во многом в результате целенаправленных действий жреческого сословия, т. е. сознательной, растянувшейся на века и тысячелетия «брахманизации» традиций) все разновременные компоненты в единую систему. Именно философский компонент выполняет системообразующие функции — без него, кстати, единого для всех толков, направлений, сект индуизма, система не существовала. У неискушенного читателя может сложиться впечатление, что коль скоро так много говорится о неправомерности безоговорочного применения к индуизму слова религия, о вторичности по своему значению идеи Бога в нем, а теперь еще и о системообразующей роли философского компонента этого учения, то религиозный компонент в индуизме либо отсутствует совсем, либо занимает весьма незначительное место. Такое впечатление было бы ошибочным. Религиозный компонент в индуизме, безусловно, есть и отличается чрезвычайным своеобразием и многообразием, и необходимо вначале выяснить, как соотносятся религиозный и философский компоненты системы, а потом уже постараться понять природу индусского политеизма. Многочисленные боги индуизма вписаны в ту же космическую шкалу, о которой уже подробно говорилось, и представляют собой следующее после людей звено эволюции. Это как бы идеальные люди, «маяки» духовности, равняясь на которых человек строит свое самосовершенствование. В богах и героях (которые, кстати, смертны) духовное начало, естественно, представлено более полно, чем в людях, животных, растениях, они ближе всех к Высшему Духу и нередко выступают как его воплощение или персонификация, что, строго говоря, означает, что все они являются определенной конкретизацией единого Абсолюта; таким образом, индусское многобожие, как это ни парадоксально звучит, по сути своей монотеистично. Триста миллионов богов — а именно эта цифра приводится во многих исследованиях советских и западных религиоведов — это триста миллионов проявлений Абсолюта, это триста миллионов имен, форм, и число это может быть умножено до бесконечности, нисколько не затрагивая при этом основополагающий принцип. Следует отметить, что такое понимание присуще не только жрецам и философам, но и большинству рядовых верующих, хотя в обыденном религиозном сознании так называемый «личный Бог», ишта-девата, может иногда восприниматься как полностью идентичный Абсолюту. В любом случае, все эти сонмы божеств, богинь, священных животных и священных предметов служат верующему конкретным объектом концентрации при размышлении о проблемах морали и долга, о вечном и преходящем, о единстве и многообразии. Боги воспринимаются, с одной стороны, как напоминание о космическом порядке, в котором существуют и они, и люди, и весь наш мир, и все другие миры, а с другой — как сказочные и мифологические персонажи, похождения которых досконально известны каждому индусу. «Домашность» богов позволяет верующему устанавливать с ними своеобразный игровой контакт — он кормит изображения богов, в жару обвевает их, в холод надевает на них платьица, вечером укладывает их спать. Принося жертву богам, он требует от них взамен исполнения своих желаний, и если боги не идут ему навстречу, то даже наказывает их. Таких интимных взаимоотношений с безлично-грозным космическим Абсолютом, естественно, нельзя и вообразить. От богов можно, в конце концов, даже отказаться и стать атеистом, но в Индии это не означает выхода из индуизма. Другое дело — отказ от мировосприятия, от системы, что, как правило, ведет к остракизму, исключению из общества и к гибели мятежного индивида. Но каким образом подобный отказ становится известным другим? Это связано в первую очередь с тем, что индуизм зиждется не только на религиозном и философском компонентах, но и на социальном. Величественные идеи философского компонента существуют не сами по себе, как некая игра ума; они воплощены в социальном устройстве, невероятная жесткость которого резко контрастирует с, казалось бы, гуманистической широтой космического мировосприятия. В индуизме в том виде, в каком он существует, по крайней мере, последнюю тысячу лет, религиозный компонент служит главным образом иллюстрацией к идее космического порядка. Он не только не является ведущим среди компонентов системы, но теоретически (именно теоретически) может даже быть устранен из нее, скажем, в результате распространения образования и научных знаний, но это не изменит характера системы. Иное дело — компонент социальный, переводящий космическое виденье мира на твердую почву реальности. Едва обращаешься к социальной практике индуизма, как сталкиваешься с такой жесткой регламентацией общественных связей, равную которой вряд ли найдешь в других религиозных системах. Важнейшим проявлением социально-регулятивной функции индуизма является широко известная триада — каста, карма, дхарма. Согласно священным текстам, статус человека предопределен еще до его рождения суммарной совокупностью добрых дел и дурных поступков, совершенных им в предыдущей жизни («закон кармы»). Таким образом, его место на космической эволюционной шкале находится в неразрывной связи с действием доктрины переселения душ, согласно которой душа (искра великого пламени — Высшего Духа или капля вселенского Океана) проходит ряд последовательных жизней в разных телах, в идеале постепенно приближаясь к полному освобождению от телесных оболочек, или «одежд», т. е. к растворению в чистом духе. Социальный статус индуса действительно предопределен еще до его рождения. Правда, в реальной жизни все объясняется строгой структурализацией индийского общества и тем, что еще не родившийся ребенок получает свое место в нем в зависимости от кастовой принадлежности родителей. Кастой, как известно, предопределен не только его статус, но и профессия, очерчен тот круг, внутри которого он когда-нибудь будет выбирать себе невесту, иными словами, все социальные связи и обязанности, права и возможности не выбираются и не создаются индивидом, а как бы вручаются ему для беспрекословного исполнения в момент его появления на свет. Человек сразу же вводится в сложнейшую структуру общества в качестве элемента одной из существующих ячеек, прочно закрепленных на иерархической шкале. Все эти ячейки принципиально не равны, практически каждая имеет соседей выше и ниже ее по положению, иными словами, каждая, сколь бы низкое место в иерархии она ни занимала, может гордиться тем, что она выше каких-то других ячеек, и в то же время должна считаться с тем фактом, что есть ячейки выше нее. У каждого члена касты есть права и обязанности, но нет возможности продвигаться вверх по социальной лестнице. Однако, в полном соответствии с законом космической эволюции, у него есть обязанность роста внутреннего, духовного, т. е. накопления внутренних достоинств. Впрочем, и этот рост запрограммирован, ибо связан с дхармой (это сложнейшее понятие лучше всего оставить без перевода, хотя в русском языке есть, по мнению автора, более удачный его эквивалент, чем используемые обычно понятия «обязанность», «долг», «религия» и т. п.; этим эквивалентом является более емкое понятие «предназначение» в самом широком его смысле), дхармой личной и дхармой кастовой. Иначе говоря, при оценке человеческой деятельности главной добродетелью считается пассивная добросовестность — человеку надлежит безукоризненно соответствовать занимаемой им ступеньке в общественной иерархии каст. При этом не принимаются во внимание таланты и качества, не относящиеся к сфере предписанной человеку кастовой деятельности. Лучше уж плохо выполнять свою дхарму, чем хорошо чужую. Не поощряется, таким образом, отклонение от своего предназначения, которое, напомним, зависит не от индивидуальных наклонностей человека, а от того места, которое отрядило ему общество без его воли и ведома. Человек — раб этого общества, какую бы ступень в его иерархии он ни занимал, ибо действовать в соответствии со своими наклонностями, скажем, сменить профессию, он не имеет права. Таким образом, у каждого «сверчка» есть пожизненно закрепленный за ним «шесток» и единственное, что ему остается,— это оправдать свое пребывание на нем скрупулезным исполнением предписываемых обязанностей. Если человек «более чем соответствует» занимаемому им в кастовой иерархии положению, то индуизм сторицей вознаграждает его, обещая улучшение социального положения и повышение места на иерархической лестнице, но только в следующем рождении. Если же человек не соответствует, он наказывается, иногда вплоть до изгнания из общества, причем наказание следует не только в последующем рождении, но и в нынешней, вполне реальной жизни. Триада каста-карма-дхарма — это весьма гибкий инструмент социальной регуляции, однако далеко не единственный в арсенале индуизма. Особого разговора заслуживает проблема кодификации поведения верующих, выражающаяся, в частности, в детально разработанной обрядовой практике, чрезвычайно сложной и разнообразной. Строжайшая религиозная регламентация повседневных дел и мыслей человека, тотальная сакрализация жизни, детализированная кодификация его поведения — от пробуждения, выпивания утром воды и чистки зубов до раскладывания постели вечером, от зачатия ребенка до похоронного и поминальных обрядов — ни на минуту не оставляют человека свободным. При этом буквально каждое правило кодекса поведения так или иначе соотнесено с центральными космическими идеями системы, каждому шагу человека дается определенное истолкование и объяснение, подтверждаемые ссылками на мириады священных текстов, нередко противоречивых из-за размытости канона. Таким образом, система индуизма выступает в трех, практически нерасчлененных ипостасях: космическое виденье мира, преломляющееся в представление о находящейся в постоянном движении иерархической шкале духовной эволюции; персонифицированное, мифологическое воплощение этих представлений в конкретно-чувственных образах и тесно связанная с этим тотальная сакрализация всех жизненных проявлений, включая религиозную регламентацию биологической, духовной и общественной деятельности каждого человека; и жесточайшая социальная структурализация, закрепляющая пожизненно индивида и навечно коллектив (касту) в определенной точке иерархической вертикали со всеми вытекающими отсюда ограничениями и обязанностями. Структурализация общества, санкционируемая индуизмом, выражается не только в кастовом делении, но и в варновом. Если касты можно уподобить клеткам организма, то варновую систему — скелету индусского общества. Варновое деление, более древнее, не исчезает, уступив место кастовому, а продолжает сосуществовать наряду с ним, и все касты оказываются вписанными в варны. Варновое деление, с одной стороны, выступает консервантом структуры, с другой же — получает иногда на определенных этапах временное антикастовое толкование, с тем чтобы в полном соответствии со спецификой системы начать играть на следующем историческом этапе вновь кастообразующую роль. Дополнительным коррективом всей разветвленной системы религиозной регламентации социальных связей служит в индуизме регулирование семейно-брачных норм, особенно в том, что касается положения женщин, их обязанностей по отношению к мужу (воспринимаемому как воплощение Бога), к его родным, а также поведения родителей жены по отношению к родителям мужа, которые считаются непременно более высокими по статусу (даже при полном равенстве их кастового и материального положения). Именно в семье прежде всего, а затем уже в касте, клане, варне получает индус первое представление о принципиальном неравенстве, являющемся фундаментом религиозного обоснования иерархической социальной структуры. Более того, именно в семье, где старшие и мужчины выступают в качестве ниспосланных свыше учителей, закладывается подкрепленная религиозным воспитанием идея божественной справедливости разделения общества на мириады пирамидок, в которых младшие почитают старших, а те, в свою очередь, должны (таков их религиозный долг) всячески помогать младшим. Пирамидки оказываются включенными в подобные же объединения на более высоком социальном уровне — в касту, в клан, а в наши дни зачастую и в политическую партию. Из всего сказанного можно заключить, что подобно всем религиям, индуизм, несмотря на утверждения его апологетов, склонных видеть в нем систему, максимально учитывающую многообразие социальных и биологических потребностей человека и позволяющую индивиду гармонично и свободно развиваться и как личности, и как члену социального коллектива, оправдывает в реальной своей практике социальную несправедливость и освящает неравенство. Заметим, что социально-регулятивная функция индуизма не была бы столь эффективной, если бы не заложенная в нем психологическая гарантия самоконтроля верующего, своего рода внутренняя цензура, поистине «недремлющее око», которое служит залогом того, что правоверный, благочестивый индус будет насколько возможно честно, без уверток выполнять все соответствующие предписания, ведь божественное начало внутри человека куда более действенное средство контроля, чем Бог на небесах, читающий в день Страшного Суда список ваших прегрешений, а тем более чем священник, отпускающий вам на исповеди грехи. На этом фоне особую значимость приобретают все выступления социального протеста в Индии, ибо в них, хотя они заканчивались поражениями, уже содержалась победа индусов над собой, над стереотипами окружающей социальной среды. В то же время нельзя не отметить, что эти искры протеста не смогли разложить систему, поскольку при всей жесткости она обладала и обладает удивительной способностью к адаптации. Лишь дважды на протяжении ее многовекового развития новые воззрения сумели отпочковаться и обрести самостоятельность от системы — имеются в виду буддизм и возникший относительно недавно сикхизм. Во всех остальных случаях происходило обновление системы, гибкость которой обеспечивается теми чертами, которые зародились на самых ранних этапах ее формирования,— веротерпимостью, переосмыслением традиций, истолкованием дополнений и нововведений, втягиванием их в сложившуюся социально-религиозную структуру и т. д. Таким очередным обновлением системы стало учение Рамакришны, которое явилось исходным для дальнейшего ее развития на новом историческом этапе. Именно Рамакришне принадлежит роль примирителя традиций и инноваций, ближайшего к нам по времени «систематизатора» индуизма. Внешне жизнь Рамакришны мало отличалась от жизни типичного средневекового проповедника. Однако утверждение, что и внутренние его интересы не выходили за рамки тех религиозных проблем, которые и раньше так или иначе разрабатывались в Индии великим множеством философов, йогов и гуру, было бы неверным. Жизнь Рамакришны пришлась на сложный и противоречивый период индийской истории — период начавшейся ломки феодальных отношений и зарождения капитализма в условиях колониальной зависимости страны, период пробуждения национального самосознания и зарождения организованного национального движения. Значительную роль в формировании буржуазно-национальной идеологии в Индии играла, как известно, религиозная реформация. Рамакришна не стоял у истоков реформации индуизма. Уже прозвучали страстные проповеди Раммохан Рая (1772—1833), выступившего с критикой индусского политеизма, идолопоклонства, отживших обычаев, с призывом «очищения индуизма» и провозгласившего истинность всех религий как различных путей к богу; уже были созданы различные реформаторские общества, в частности «Брахмо самадж», с деятелями которого Рамакришна поддерживал близкие отношения. Его учение было не более чем звеном в религиозной реформации. Оно, безусловно, в ряде моментов отражает социальные, экономические и идеологические сдвиги в стране и свидетельствует об отходе от этой традиции, отходе чаще всего бессознательном, но совершавшемся в русле новых, чутко угаданных проповедником буржуазно-реформаторских идей. Это и послужило объективной причиной роста популярности его личности и учения в дальнейшем. Последнее не было сведено в систему самим Рамакришной, это сделали его ученики. Оно излагалось устно в форме притч, которые напоминают, а в некоторых случаях и повторяет древние санскритские изречения. Только мысли в них изложены не в стихотворной форме, а современным разговорным языком — очень простым, даже простонародным. Притчи эти служат доказательством того, что их автор обладал литературным даром. В них проявляется несколько неожиданная черта его характера — народный юмор. Очень часто высказывания шутливы, порой даже саркастичны. Нередко употребляются странные сравнения — поучения мудрецов ассоциируются с воем шакалов, ученики уподобляются павлину, напившемуся опиума. Одна из важнейших идей — идея сочетания мирской деятельности с постоянной мыслью о боге — иллюстрируется словами о карбункуле на спине человека, продолжающего работать, но подсознательно все время помнящего об этом карбункуле. Притчи оказались достаточно емкой и гибкой формой для изложения отдельных аспектов учения Рамакришны, но эта же форма обусловила фрагментарность его высказываний и затруднила понимание системы его взглядов. К тому же притчи в каждом случае адресовались конкретному собеседнику и, следовательно, не могли быть действительно адекватным и полным выражением, его идей. Да и сам проповедник считал, что не всем людям нужно одинаково полно излагать учение, поскольку возможности их индивидуальны, поэтому определенному слушателю он приоткрывал лишь часть своего учения, не заботясь о целостности. Все это следует иметь в виду при попытках систематизировать взгляды Рамакришны и изложить их более или менее связно. Ниже сделана попытка акцентировать внимание на узловых положениях этого учения. Бог — един, но люди называют его разными именами, представляют его в различных формах, приписывают ему различные атрибуты. Данное положение, восходящее к древней индуистской традиции и снова повторенное сначала Р. М. Раем, а за ним и Рамакришной, последний иллюстрирует множеством притч и поучений. Как вода, которую черпают из водоема индусы, мусульмане и христиане, называя ее соответственно джол, пани, water, есть и то, и другое, и третье и не может считаться исключительно пани, например, а не джол, так и бог почитается одними как Аллах, другими как Рама, третьими как Брахман, а в действительности един. Хотя эта мысль Рамакришны не была чем-то абсолютно новым (еще в «Ригведе» говорилось, что истина одна, но мудрецы называют ее по-разному), в конкретных исторических условиях Индии второй половины XIX в. выводимый отсюда религиозный универсализм объективно отражал стремление уравнять в правах различные религии Индии, представить несущественными противоречия между ними и тем самым способствовать единству их последователей. Сущность каждой религии и конечная цель человеческой жизни — богопознание. Верующий должен следовать всем предписаниям своей религии, не сомневаясь в них, так как сам бог не даст ошибиться ищущему его. Однако не следует пробовать разные пути постижения, ибо можно только отдалиться от цели; так человек, шедший в Калькутту и искавший самую краткую дорогу, вынужден был каждый раз начинать свой путь с начала и в конце концов не дошел до Калькутты. В этом примере допустимо усмотреть реакцию Рамакришны на случаи перехода некоторых индусов в христианство. Бог разлит во всем. Он скрыт от глаз человека, хотя и пребывает в сердце его. Между человеком и богом — майя. Майя обусловливает искаженное восприятие человеком мира и бога, смешивает понятия реального и нереального, меняет их местами (из-за нее бог воспринимается как нечто нереальное, а мир предстает реальным и вечным), заставляет человека ощущать себя субъектом действия, «делателем», в то время как он не более чем машина, управляемая богом, возбуждает в человеке чувство собственности, вынуждает его считать различные предметы принадлежащими ему. Майя, согласно Рамакришне,— это соблазны внешнего мира и «я», или, по его выражению, «женщины и золото», с одной стороны, и человеческое «эго» — с другой. Проповедник часто и недвусмысленно говорил о своем пренебрежении к богатству. Нередко его можно было видеть сидящим на берегу Ганга и держащим в одной руке монеты, в другой — комок земли. Будто взвешивая то и другое, он постепенно убеждал себя, что ценность их одинакова, и бросал их в воды Ганга. Рассказывают, что позднее от прикосновения к деньгам он получал ожог и терял сознание. Утверждение нестяжательства в качестве идеала, тезис о презренности и греховности богатства продолжали определенную средневековую традицию, но в то же время в них можно усмотреть в зародыше ту критику буржуазных отношений, с которой выступили в последней трети XIX в. некоторые передовые индийские мыслители, в частности Свами Вивекананда, ближайший ученик Рамакришны. Что касается «эго», то оно, в представлении Рамакришны, достаточно традиционном, является причиной тщеславия и самодовольства, заставляет человека ощущать различие между «я» и «ты»; оно подобно палке на поверхности воды, разделяющей ее на две части, хотя на самом деле вода одна; «эго» заставляет человека думать, что он — субъект действия, хотя на самом деле человек только выполняет божью волю. От «эго» нельзя просто отречься, как, например, отрекается верующий от женщин и золота, оно сохраняется практически всегда. «Ощущение «я» никогда полностью не покидает человека, как не исчезает неприятный запах в чашке, где хранился чеснок». Оно присуще и людям, достигшим высшей ступени духовного развития. Даже когда человеку кажется,- что в его сердце нет тщеславия, следы его еще остаются; так у козла дергаются ноги, когда голова уже отрублена. «Эго» оставляет человека полностью, только когда тот погружается в самадхи, когда он познает, что Брахман есть его внутреннее сознание. Самадхи, по определению Рамакришны,— состояние блаженства, подобное тому, какое испытывает рыба, отпущенная в воду. Большинство людей не возвращаются из этого состояния: максимум через три недели пребывания в нем они умирают. Те же, кто возвращается, не в силах описать испытанное и молчат. У вернувшегося из состояния самадхи снова появляется «я». Его сохраняет бог, ибо, пока человек обладает телом, у него должно быть какое-то минимальное «количество» майи, чтобы тело продолжало функционировать. Так украшения делаются не из чистого золота, а из золота с разными примесями. Рамакришна усматривает в «эго» две стороны — более поверхностное уводит человека с истинного пути, именно оно заставляет человека считать, что он действует по своей воле, и ощущать разницу между «я» и «ты». Это «эго» исчезает в самадхи. «Эго» глубинное, более сокровенное открывается после возвращения из состояния самадхи. Это уже не «я», а подобие его, напоминающее след от ветки на сорванном кокосовом орехе. Такое «эго» уже не способно толкать человека на злые дела, оно заставляет думать: «Все, что делаю, делаю не я, а бог через меня,— бог — мой хозяин, я — только слуга его». Помимо майи Рамакришна вводит понятие «дайя». И то и другое дано богом, но майя скрывает его, «дайя» же приводит к богу. Первая — проявление избирательности в любви (скажем, любовь к своим детям, родителям, соотечественникам), вторая — то же чувство, но без какого-либо противопоставления или выделения, т. е. любовь ко всем людям. Любить только индусов — майя, любить последователей всех религий — дайя. Майя представляется Рамакришне в двух аспектах — видья-майя и авидья-майя (майя знания и майя незнания). Авидья-майя — это «шесть аллигаторов в сердце человека»: гнев, гордость, заблуждение, зависть, похоть и скупость, сюда же относятся «женщины, и золото». Она погружает человека в мирские заботы, уводя его от бога. Видья-майя, т. е. отречение, молитвы, медитация, общение со святым человеком, прославление бога,— средство познания его. Видья и авидья, так же как и дайя, имеют отношение к той стадии жизни человека, когда дух его еще не слился с Брахманом, частица не вернулась в целое, бог еще не познан. Если Брахман — крыша здания, то видья-майя — это лестница, ведущая на крышу, вернее, ее последние ступени. Раз человек добрался до крыши, неважно, каким способом он преодолел расстояние — по лестнице ли, по веревке ли. «Представьте себе,— говорит проповедник,— что кому-то в ногу вонзился шип. Он берет другой шип и с его помощью удаляет первый, после чего выбрасывает оба. Индивид должен использовать шип знания, чтобы вытащить шип незнания. Потом он отбрасывает и то и другое». Рамакришна утверждает, что не все люди в равной степени способны к познанию бога. Он уподобляет их трем куклам — из соли, из тряпок и из камня. Первая полностью растворяется в воде и сравнима с человеком, растворившим свое «я» в мировом «Я», т. е. познавшим бога. Кукла из тряпок поглотит много воды, но сохранит свою форму. Так человек, верящий в бога, полный любви к нему, сохранит свое «я». Подобно каменной кукле, непроницаемой для воды, непроницаем для благочестивых наставлений погрязший в миру человек. На вопрос, откуда берутся дурные люди, Рамакришна отвечает: они результат божественной силы. Тьма нужна, чтобы оттенять свет, грешники нужны, чтобы были святые. В другом месте Рамакришна объясняет, что число дурных и хороших качеств зависит от поведения индивида в предыдущих рождениях. Отсюда одни быстрее достигают успехов в самосовершенствовании, чем другие. Поясняется это таким примером: человек выпил с утра стакан вина и опьянел. Кто-то удивился, что действие одного стакана оказалось столь сильным, но ему объяснили — ничего удивительного: он пил всю ночь. Откуда же берется зло в мире, который есть проявление божественного, не характеризует ли это зло в той или иной степени сущности самого бога? Ответ на этот вопрос, для всех религий бывший труднопреодолимым препятствием, проповедник иллюстрирует блестящим примером со змеей: как яд змеи, опасный для всех живых существ, находясь в ее теле, не причиняет ей никакого вреда, так и зло, будучи проявлением божественного, не затрагивает и не изменяет сущности бога. Говоря о боге, Рамакришна часто употребляет слова «Брахман» и «Кали», однако он ни в коей мере не противопоставляет их. Для него и абстрактный Брахман, и персонифицированная Кали — одно: «Кали — Первозданная Энергия; когда она не в активном состоянии, я называю ее Брахман, когда же она создает, предохраняет или разрушает, я называю ее Шакти или Кали». Чем ближе человек к постижению бога, тем проще его видения: «Сначала вы видите богиню с десятью руками (в таком облике она поражает своей мощью), потом — божество с двумя руками (уже нет десяти рук с различными орудиями и оружием), потом — Гопалу, нежного ребенка, в котором нет и следа мощи, и в конце только свет». Индивид не в состоянии постигнуть бога до конца, он может познать лишь какую-то часть его; так муравей собирается унести всю сахарную гору, а в силах утащить лишь отдельные ее песчинки. Да и зачем познавать непознаваемое? «Если кувшина воды достаточно, чтобы утолить мою жажду, зачем мне целое озеро?» В теоретическом плане Рамакришна считал истинными все «пути к богу», но в своих советах и наставлениях он явное предпочтение отдавал бхакти (путь любви). С большим уважением относясь к джняна, пути знания, он все же считал, что это не путь для кали-юги. Джняна требует полного растворения «я» в Брахмане. Человек не может овладеть знанием Брахмана, пока у него сохраняется чувство, что он есть тело. Индивид, идущий путем джняна, не должен иметь даже малейших следов привязанности к «женщинам и золоту». Но такое совершенное очищение вряд ли достижимо на практике. «В кали-юге мысль человека целиком сосредоточена на добывании пищи — как же ему отбросить «эго», как стать выше голода, боли, болезни? Джняна говорит: я — Брахман, я вне тела, вне голода и жажды, болезней, несчастий, рождений и смерти, удовольствия и боли. Как же вы можете быть джняни, сохраняя подверженность болезням, несчастьям, боли, удовольствию и т. д.?» Путь бхакти универсальный, он не только не противоречит джняна, но и включает его. «Бхакти-йога,— учил Рамакришна,— религия нашего века. Это не значит, что возлюбивший бога достигает одного результата, а философ и деятель — другого. Это значит, что человек, жаждущий знания Брахмана, может получить его, следуя и путем бхакти. Бог, любя верующего в него, может, если пожелает, даровать ему и знание Брахмана». Так, человек, добравшийся до Калькутты, имеет возможность увидеть и музеи, и Майдан, и другие места — все дело лишь в том, чтобы добраться до Калькутты. «Знание бога и любовь к нему — одно и то же. Между чистым знанием и чистой любовью разницы нет». Желая пояснить мысль о том, что бхакти видят бога, принимающего те или иные формы, а джняни познают того же бога, но в его «чистом», «бесформенном» состоянии, проповедник приводит изящный пример: «Брахман — это безбрежный океан. Представьте себе, что любовь бхакты к богу обладает каким-то замораживающим свойством; океан замерзает, превращаясь в отдельных местах в большие глыбы льда. Иными словами, тут и там бог принимает различные формы для тех, кто любит его. Но когда поднимается солнце (знание), лед тает, формы, которые он принимал, исчезают. Тогда уже описать бога невозможно». Учение Рамакришны облечено в форму практических советов. Многочисленные наставления обращены к «домохозяевам», мирянам. Наставления эти вытекали как естественное следствие из признания им реальности мира. В этой части его учение, пожалуй, наиболее оригинально. По мнению Рамакришны, нет ничего особенно греховного в мирской жизни, нужно только отречься от соблазнов. Совсем не обязательно становиться аскетом (он вообще питал некоторую неприязнь к аскетам и нередко молил богиню Кали, умоляя ее сделать так, чтобы судьба аскета миновала его). «Вы ведете жизнь домохозяина,— успокаивал он учеников.— Зачем вам бояться мира? Когда Рама сообщил Дашаратхе, что он собирается уйти от мира, это взволновало отца, и тот обратился за советом к Васиштхе. Васиштха сказал: Рама, зачем тебе отрекаться от мира? Подумай, разве этот мир вне бога? Что отрицать и что принимать? Нет ничего, кроме бога. Это Брахман, который является как Ишвара, майя, живые существа и вселенная». Конечно, советы и наставления проповедника продиктованы его пониманием религиозного долга, поэтому, признавая реальность мира и желательность, даже необходимость жизни и активной деятельности в нем, он одновременно в качестве идеала выдвигал человека, отрекшегося от соблазнов мира, исполняющего свои обязанности, но не привязанного к этому миру и при всех обстоятельствах думающего о боге. «Живи с женой и детьми, с матерью и отцом, служи им. Относись к ним, как к очень близким себе, но в глубине души знай, что они не принадлежат тебе». Так, служанка в богатой семье делает все работы по хозяйству, а мысли ее далеко — в родной деревне, в ее собственной семье. Она может привыкнуть к дому хозяина, любить его детей, как своих, но в душе она всегда знает, что они не ее дети. На вопрос: «Возможно ли совместить деятельность и стремление познать бога?» — Рамакришна отвечал: «Все без исключения действуют, все работают. Даже дыхание — действие. Нет такого пути, который полностью отрицал бы деятельность. Работай, но во имя божье!» Человеку надлежит работать для других. Но обязательным условием Рамакришна считал верную целенаправленность такой работы — не ради удовлетворения тщеславия, не ради собственного спасения, даже не ради тех, для кого она предназначается, а единственно во имя любви к богу. Объективно человек, работая для других, творит тем самым добро себе, хотя не люди, а бог помогает им. Работа для других, когда человек всего лишь инструмент в руке божьей, рождает в его душе любовь к богу. Важно поэтому, чтобы никто не ждал награды за свои благодеяния. «Всегда старайся исполнять свои обязанности, не желая никаких благ»,— говорил он. Нужно лишь познать бога, понять, что все происходит по его воле. Любопытно, что Рамакришна иногда признавал пользу филантропии, даже если человек при этом руководствовался вполне земными целями: «Те, кто строят больницы и получают от этого удовольствие, вне всякого сомнения, люди хорошие, но иного типа». Подобного рода советы составляют едва ли не самую существенную часть проповеди. Его наставления, касающиеся поведения в семье, отношений между супругами, очень наивны и поверхностны; он и сам не делал на них упора, признавая, что идеальные духовные союзы крайне редки. Центр тяжести его учения лежал именно в поддержке деятельности, в частности общественной, что было весьма неожиданно в устах индийского религиозного проповедника. Мир для него — арена деятельности человека, он буквально уговаривает своих учеников не чураться последней. Его требования к мирянам ни в коей мере не носили характера запретов: достаточно внутреннего отречения от соблазнов мира. Активность выводилась на первый план, отодвигая религиозные постижения и аскезу. Нетрудно заметить, что все учение Рамакришны не свидетельствует о разительной ломке традиции, более того, оно целиком лежит в рамках традиции, но в нем по-новому расставлены акценты. Рамакришну принято называть ведантистом, и, безусловно, веданта оказала на его взгляды большое влияние. Впрочем, любой индус, интересующийся вопросами философии и религии, по словам Макса Мюллера, «дышит ведантой». Однако вряд ли можно безоговорочно зачислить Рамакришну в ведантисты. Признавая эту древнюю философскую систему, ставя ее исключительно высоко, он в своей практике не руководствовался ею и, что особенно интересно, не рекомендовал этого своим ученикам, даже утверждал, что «домохозяевам» знать ее вредно, поскольку для них «я» равнозначно телу, а следовательно, они не могут идентифицировать себя с Брахманом. Рамакришна старается примирить между собой не только веданту, культ Кали и учение об аватарах, он объявляет не противоречащими друг другу три школы веданты — двайту, вишиштху-адвайту и адвайту. Он выстраивает их в один ряд по восходящей линии — двайта, по его мнению, соответствует низшей ступени постижения, адвайта же является высшим откровением, но может быть понята только в состоянии самадхи. Метод «стадийности» лежит в основе всех попыток Рамакришны сгладить противоречия в индуизме. Идея поэтапности, постепенности религиозного постижения, по всей вероятности, бессознательное стремление к превращению этого вероучения в более стройную систему. Понимание человеком бога как имеющего форму свидетельствует о первой, низкой ступени его духовного развития, а понимание бога как абсолюта, не имеющего ни формы, ни атрибутов,— о более высокой. Культовая практика, скрупулезное выполнение обрядов тоже связываются с первой стадией постижения, ибо обряды подобны вееру, который необходим, пока нет ветра. Кому нужны церемонии, когда человек уже безумен от любви к богу? Еще один нюанс — в теории «стадийности» можно усмотреть также стремление примирить самые различные положения реформации, оставив в неприкосновенности основные концепции индуизма. Если почти все деятели реформации решительно отвергали те или иные догмы и обычаи индуизма, Рамакришна пытается сохранить фактически все — и то, что принималось другими, и то, что ими отвергалось. Ему, например, была абсолютно чужда центральная идея «Брахмо самадж» - борьба с идолопоклонством. До конца своих дней он с полной серьезностью поклонялся статуе Кали в храме, выполняя перед ней не только предписанные священными текстами, но и придуманные им самим обряды, что показывало его глубокую убежденность в действительности такого богослужения. Критикам идолопоклонства он говорил: «Мы не можем сказать людям, что они поступают неверно, боготворя изображение из глины. Не нам учить других. Один бог может учить людей. Изображение из глины — это изображение духа. Но даже если допустить, что это действительно лишь глина, все равно различные формы богопочитания созданы самим богом, чтобы удовлетворить людей, стоящих на разных ступенях познания1». Отношение Рамакришны к основным догматам индуизма выражено им не всегда достаточно определенно. Он предпочитал обходить самые острые вопросы, однако, невольно делая упор на каком-либо аспекте своего учения, он тем самым оставлял в тени другие положения. Одна из центральных идей традиционного индуизма, закон кармы, теряет у Рамакришны всю свою непреложность. В одной беседе на вопрос: «Как же быть, неужели мы будем пожинать плоды нашей прошлой кармы?» — Рамакришна отвечает уклончиво: «И так может быть. Но с возлюбившими бога все происходит иначе», а далее уже определенно: «Убежденно скажи себе — Я произношу имена Рамы и Кали, как же могу я оставаться несвободным? Как я могу быть подвержен закону кармы?» Рамакришна не отвергает доктрину переселения душ, но и не поддерживает ее. На прямой вопрос одного из членов «Брахмо самадж»: «Верите ли Вы в переселение душ?» — он отвечает: «Да, говорят, 'что-то вроде этого существует. Как можем мы понять пути господни своим ограниченным умом?» Этот уклончивый ответ можно расценивать как простую уступку традиционному пониманию, не более того. Сколько-нибудь важной роли в религиозных воззрениях проповедника эта доктрина не играла. Она ему была не нужна, поскольку акцент в его учении делался на религиозности индивида, на его вере в бога, на его попытках постижения бога путем экстатической любви к нему. Вопросы воздаяния в следующей жизни Рамакришну не волнуют. Значительно более решительно высказывается он против незыблемости авторитета священных текстов. По его мнению, веды, пураны, тантры, шесть систем философии — все осквернено словом, Брахман же нельзя описать. Он резко обрывал приходивших к нему пандитов: «Сколько текстов вы прочли? Что вы узнали в результате? Прежде всего пытайтесь познать бога». Подобное утверждение было равноценно отрицанию авторитета вед и других священных книг. Оно имело целью упрощение индуизма, на первое место ставился внутренний психологический фактор — «общение» верующего с богом. Основные положения учения Рамакришны — идея равенства людей перед богом, или возможность познания его всеми без исключения, принцип спасения верой, признание главным критерием при оценке человека степень его любви к богу — имели явно антикастовую направленность. При всем этом отношение Рамакришны к кастовой системе было отмечено половинчатостью, свойственной, впрочем, и другим сторонам его реформаторского учения. Он считает, что кастовые различия стираются только тогда, когда человек постигает бога; до того они должны приниматься во внимание. Так, сладок фрукт, созревший и упавший на землю, в отличие от недозрелого, который сорвали и положили дозревать. Сказанное позволяет сделать заключение, что религиозно-философское учение Рамакришны представляет собой сложное, подчас противоречивое переплетение, с одной стороны, традиционных догм (получивших в его изложении иную акцентировку) и переосмысленных народно-еретических идей средневековья, а с другой — реформаторских положений, служивших религиозным оформлением зарождавшегося национализма и получивших дальнейшее развитие в трудах ближайшего ученика Рамакришны — Свами Вивекананды. И если многие черты его учения могут быть определены как вполне традиционные, другие — как реформаторские, то лежащая в основе его взглядов теория стадийности делает возможным компромисс между старым и новым, причем без необходимости отказа от тех или иных черт индуизма. Конфронтация традиции и инноваций снимается, что делает возможным на следующем историческом этапе вовлечь всю религию в процесс ее политизации. Вивекананда вынес идеи своего учителя далеко за пределы чисто выбеленной комнаты в Дакшинешваре, близ Калькутты. Его неистовый темперамент проповедника, уверенного в том, что к горестям Индии следует привлечь внимание всего мира, многократно усилил негромкий голос дакшинешварского жреца. Рожденный и выросший в колониальной, униженной стране, Вивекананда производит тем не менее впечатление истинно свободного человека — и это не могло не привлекать к нему сердца патриотов и революционеров, людей, казалось бы, весьма далеких от чисто религиозного виденья мира. Социальный пафос в проповеди Вивекананды выражен значительно яснее, чем у его учителя. Выдвигая на первый план служение массам, он помещал в центр своей системы не Бога, не Абсолют, а человека. Вера индивида в собственные силы, в возможность самому изменить существующее положение и активной целенаправленной деятельностью в миру заложить основы справедливого общества в будущем была для него неизмеримо важнее, чем вера в Бога, знание священных текстов, соблюдение обрядов. Его интерпретация закона кармы не как следствия совершенных деяний в прошлых рождениях, а как возможности изменить свое будущее и будущее своей страны служила катализатором общественной и политической активности. Не богопознание, а раскрепощение человека становится для Вивекананды основной темой — ибо «человек есть величайшее из всех существ... земля выше всех небес». Служение Богу есть для Вивекананды служение человеку: «Мы слуги того Бога, которого незнающие зовут человеком». В русле этой идеи воспринимается исключительный интерес мыслителя к нуждам народных масс Индии. Его мысли по данному вопросу выражены в форме религиозно-моралистических поучений и советов ученикам. «Куда вам идти,— говорил он,— где искать бога.— Разве не боги все эти бедные, несчастные, слабые. Почему не молиться им сначала? Зачем рыть колодец на берегу Ганга?» Обращаясь к своим последователям, он призывал работать во имя духовного освобождения и улучшения жизни народа: «Поклянитесь же посвятить все ерши жизни делу спасения этих трехсот миллионов, с каждым днем опускающихся все ниже и ниже». Он настойчиво подчеркивал необходимость практической деятельности и именно с точки зрения общественной пользы оценивал религию: «Я не верю в бога или в религию, которые не могут утереть вдовьи слезы или дать сироте кусок хлеба». Различие между Вивеканандой и Рамакришной состоит также в том, что калькуттский проповедник в соответствии с традицией считал первоочередным индивидуальное спасение (просветление) и учил своих приверженцев, что только достигнув состояния мукти, они могут «спасти» других (как вагоны поезда могут достичь какого-то пункта лишь в том случае, если их тащит паровоз). Вивекананда говорил иначе: «Коль скоро вы ищете собственное спасение, ваш путь лежит в ад! Добивайтесь спасения других, если хотите достичь Наивысшего! Убейте в себе желание личного мукти!» Самые важные, с его точки зрения, положения религии были все же вторичны по сравнению с целью: «Неужели вы не способны посвятить жизнь служению другим? В следующем рождении вы сможете изучать веданту и прочие философские системы. А эту жизнь отдайте служению другим...». Вивекананда не уставал подчеркивать, что исходной точкой комплекса его идей служили поучения Рамакришны, и так часто ссылался на авторитет учителя, так упорно ограничивал свою роль простым ученичеством «у ног Рамакришны», что и в Индии и за ее пределами имена их почти не разделялись. Безусловно, религиозное реформаторство Вивекананды было во многом подготовлено проповедью Рамакришны, а именно следующими ее особенностями: стремлением примирить противоречия индуизма, попыткой создать внутренне логичную систему, а также сблизить точки зрения реформаторов и ортодоксов, выдвижением идеи истинности любой религии. Все это вместе ознаменовало завершение первого этапа реформации и одновременно послужило основой для начала второго этапа. Сняв теоретические расхождения между реформаторами и ортодоксами, расположив их взгляды на разных ступенях одной религиозной системы, Рамакришна тем самым значительно облегчил своему ученику задачу привлечения индуизма для борьбы за улучшение положения народа, за национальное возрождение. Вскоре после возвращения Свами Вивекананды из первой поездки в США против него открыто выступили остальные ученики Рамакришны, упрекая в несоответствии его деятельности заветам учителя. «Руки прочь! — ответил он им.— Кому нужен ваш Рамакришна? Кому нужны ваши бхакти и мукти? Кому важно, что говорят тексты? Я с радостью тысячу раз сойду в ад, если смогу возвысить соотечественников, погруженных в тамас, если смогу поставить их на ноги, сделать людьми, воодушевленными духом карма-йоги. Я не приверженец Рамакришны или кого бы то ни было, я последователь того, кто осуществляет мои планы. Я слуга не Рамакришны или еще кого-нибудь, а того, кто служит другим и помогает им, не думая о своем собственном мукти». Этот полемический и запальчивый ответ демонстрирует одно из главных отличий ученика от учителя. Рамакришна был прежде всего религиозным деятелем, тогда как Вивекананда - общественным. К первому вполне применимы слова К. Маркса, сказанные о Лютере: «...религия была для него непосредственной истиной, так сказать природой». Для Вивекананды же религия — преимущественно средство общения, язык, одинаково понятный всем слоям населения, и этим языком он излагал отнюдь не только религиозные идеи. Отсюда и различие в методах - у Рамакришны индивидуальные беседы и поучения в форме притч (хотя и отразившие идеологические сдвиги эпохи); у Вивекананды - участие в тысячных митингах, ежедневные лекции, интервью, выступления (хотя и имеющие религиозную окраску). Для Рамакришны религия — это наивысшая истина. Для рационалиста Вивекананды она сходна с наукой, в ней нет места ничему таинственному, мистическому и сверхъестественному. «Химику, чтобы объяснить явления, не требуются ни демоны, ни призраки, ни еще что-либо в том же роде И это как раз одна из тех черт науки, которые я намерен приложить к религии». Вера в сверхъестественные существа может до какой-то степени повысить активность человека, но она ведет и к духовному упадку, к зависимости, рождает страх, суеверие. Она создает «отвратительное представление о естественной слабости индивида». И еще: «Верить во что-то потому, что организованный класс священников призывает верить, потому, что так написано в каких-то книгах, потому, что его соотечественники хотят, чтобы он верил,— современный человек понимает: это для него неприемлемо». Если Рамакришна проповедовал принцип спасения верой, то Вивекананда решительно отдавал предпочтение разуму: «Неправильно верить слепо, вы должны упражнять свой разум и развивать способность к рассуждению, проверять на практике, случаются ли подобные вещи. Так же как вы изучали бы любую другую науку, надлежит изучать и эту». «Можно ли научно подтвердить религию? - писал он спустя несколько лет после смерти учителя.— Если нет, то значит в течение многих веков она была предрассудком и чем скорее мы от нее избавимся, тем лучше. Если да, то она станет в тысячу раз сильнее». Мысль о божественном детерминизме абсолютно чужда ему: «Ответ, что на все воля божья, не является объяснением». Не удовлетворяют его и ссылки на авторитет священных текстов: «...книги, противоречащие друг другу, не могут быть судьями», они — «издержки, продукт человеческой деятельности, созданы людьми». Правда, он не отказывается полностью от вед и даже подчеркивает вечное, непреходящее их значение, но помещает их в один ряд с геометрией, логикой и химией. Вивекананда старался «приземлить» религию, отвергая чудеса и вещи, не поддающиеся объяснению: «Все тайное, все таинственное в йогических системах должно быть сразу же отброшено». А когда его спрашивали о чудесах, якобы совершенных Рамакришной, он уходил от ответа: «Чудес я не знаю и не понимаю». И все же не игрой случая следует объяснить тот факт, что в памяти индийцев имена Рамакришны и Вивекананды стоят рядом. Большинство положений, встречающихся в проповедях Вивекананды, берут свое начало в притчах и беседах его учителя. Глубокая внутренняя связь соединяет этих двух замечательных деятелей в народной памяти, как соединяла она их в те давние уже годы, когда в келье дакшинешварского жреца шли их бесконечные диалоги, слабый отсвет которых встает для нас со страниц дневниковых записей других учеников Рамакришны, из статей заезжих журналистов и из книг индийских и европейских деятелей культуры. |
| Читайте: |
|---|